9 июля - 30 лет со дня смерти Леонида Пантелеева
К написанию этих заметок меня подтолкнуло перечитывание повести, законченной её автором ровно тридцать лет тому назад и оказавшейся, пожалуй, единственным объемным и полнокровным свидетельством глубоко верующего человека из «мира советской литературы». Впрочем, находился он в этом мире более чем номинально.
Его не стало летом 1987 года. Свою исповедальную книгу он завещал напечатать через три года после своей кончины. Так и случилось: в 1991-м главы из нее вышли в «Новом мире», появилось и книжное издание. В журнале публикация называлась «Я верую», в издательском варианте — просто «Верую…».
 В новом веке повесть переиздавали в паре с другим сочинением этого автора, очень известным по кинофильму о полутюремной школе для трудновоспитуемых юнцов. На обложке одного из таких двойных переизданий — кинокадр: лихой подросток в тенниске, кепке и с папироской в зубах.
В новом веке повесть переиздавали в паре с другим сочинением этого автора, очень известным по кинофильму о полутюремной школе для трудновоспитуемых юнцов. На обложке одного из таких двойных переизданий — кинокадр: лихой подросток в тенниске, кепке и с папироской в зубах.
Хорошо, что автор обеих повестей писатель Л. Пантелеев (1908—1987) не видел этого оформления. С точностью в обращении ему везло не слишком: даже в некрологе его в очередной раз назвали «Леонидом Пантелеевым». А он, понимаете, без конца настаивал, что буква «Л» в его литературном имени не расшифровывается, несмотря на популярную автобиографическую повесть «Ленька Пантелеев»…
Книга о личной религиозной вере была написана человеком, которого несколько поколений советских подростков знали по повести «Республика Шкид». Это именно ее соединили в одном из переизданий с «Верую…», дав здесь, кстати, уже и третий вариант названия — присоединив к тихому, камерному слову кричащий восклицательный знак. Очевидно, не читая внимательно этой документальной повести-исповеди, издатели почему-то отождествили ее героя с Галилеем или Джордано Бруно.
В массовом общественном сознании Л. Пантелеев, вероятно, так и останется автором, точнее, соавтором одного-единственного произведения — «Республики Шкид». Увлекательное повествование о перековываемых новой властью подростках написали два бывших воспитанника советской «бурсы», петроградской школы имени Достоевского — Григорий Белых и Алексей Пантелеев. Лучшего примера деятельного гуманизма молодой революционной республики и придумать было нельзя: Максим Горький расхвалил эту талантливую книгу так, что она стала популярной и в Европе. Спустя годы нацисты жгли ее на кострах вместе с сочинениями Гёте и Ленина — книгу о перевоспитании революцией юного беспризорника и уголовника из дворянской семьи.

Здание, в котором в 1930-е годы располагалась колония имени Достоевского. Фото Надежды Обрядиной
Правда, как справедливо замечает автор предисловия к «Верую…» критик Самуил Лурье, «требовалось только забыть покрепче о том, что, прежде чем усыновить и перевоспитать, революция осиротила его». А потом и уничтожила соавтора популярного сочинения: в годы сталинских чисток замученный на следствии Григорий Белых (по Шкиде — Янкель) умер в тюремной больнице НКВД.
Однако назвать Алексея Ивановича Пантелеева (Еремеева) автором одной лишь «Республики Шкид» было бы несправедливо. Вспомним рассказы «Честное слово» и «Пакет». Случай с мальчиком, которого во время игры в войну оставили на часах и позабыли о нем, а он не смог уйти, так как дал честное слово, и захватывающая история о красноармейце Пете Трофимове, который, попав в плен, съел пакет с донесением Буденному, — полюбились.
И в этих, и в других сочинениях читатели чувствовали что-то необычное — вероятно, какую-то особенную правду. Она была даже в преображенном изрядной долей вымысла «Леньке Пантелееве». Она была и в других рассказах, и в педагогическом романе-дневнике «Наша Маша», и в воспоминаниях о писателях, и уж тем более в блокадных записках. Правда и только правда — как стержень, как внутреннее дыхание.
После гибели соавтора по «Шкиде» Л. Пантелеева долго не печатали, а выпускать «Шкиду» под одной своей фамилией он не соглашался, считал это для себя позорным. Но постепенно время менялось: о нем написал хвалебную статью Корней Чуковский, и Алексея Ивановича вновь допустили к публичной жизни в литературе.
И даже награждали орденами по случаю юбилеев. А он, получив награду, отказывался от казенной машины и шел в церковь.

Кадр из фильма «Республика Шкид», 1966
Вот эта жизнь уже не была публичной, но власть о ней знала. И хотя, как справедливо пишет Лурье, Алексей Иванович «давно уже — и почти незаметно для публики — порвал с литературой вымысла», начальство всегда помнило, что он дворянин по происхождению, и знало, что он верующий христианин. А он, стоя в православном храме, незаметно оглядывался: «Кто здесь оттуда?»
Алексей Иванович понимал, что это — хождения по лезвию ножа, но не пойти не мог. Так и шел, с орденом от власти, которая разрушила по всей России десятки тысяч храмов и не построила ни одного. Он знал, зачем шел.
«…Потребность омыться, очиститься, а также, не скрою, и возблагодарить Бога за то, что, при всей двуличности моей жизни, я ничего не делаю заведомо злого, что охраняет меня Господь от недоброго, наставляет на доброе, — писал он в своей потаенной книге. — Не проповедуя слова Божия на площадях и стогнах, часто не называя вещи своими именами, я, по мере сил своих и по мере возможности, стараюсь, возжегши тайно светильник, внести теплый свет христианства во все то, что выходит из-под моего пера. Там, где можно. А там, где нельзя, — там и не получается ничего или получается плохо. Сила моей дидактики, “моральной проповеди”, о которой упоминал в своих статьях К. И. Чуковский, объясняется лишь тем, что она основана на моей христианской вере.
Язык, на котором я пишу свои книжки, — эзопов язык христианина».
Он не слишком-то верил, когда писал эти строки, что они когда-то увидят свет, но, уходя из жизни на заре «перестройки», все-таки решил оставить распоряжение. Для меня то, что эта книга уцелела и вышла, не иначе как чудо.
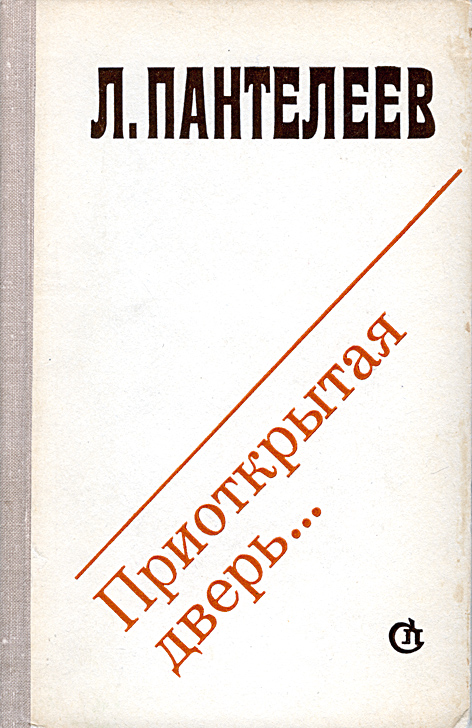
…Но разве не чудо и его последняя прижизненная книжка — «Приоткрытая дверь» (Ленинград, 1980 год)?
Изувеченная цензурой, она была его болью и мучением: только близкие друзья знали, как он ею недоволен, — хотя и сегодня трудно поверить, что эти рассказы, очерки и фрагменты старых записных книжек сумели быть напечатанными в обычной советской типографии издательством «Советский писатель». «А вообще-то должен сознаться, что чем дальше, тем больше тянет меня на чистую правду. В чем тут дело — не знаю. Может быть, это закономерность возраста, а может быть, закономерность времени. Уже не первый год я работаю над книгой рассказов о своем самом раннем детстве…» Это из предисловия «Приоткрытая дверь в мастерскую (история моих сюжетов)».
Мы узнаём, что рассказ «Пакет» появился из биографии отца, царского офицера, раненного японским кавалерийским разъездом, но доставившего донесение по назначению. И получившего в лазарете боевой орден — крест Святого Владимира. На глазах у читателя Пантелеев размышляет о том, что же так мешало ему согласиться на просьбу редактора переделать предложение «И под самое Рождество мне из Москвы подарок: орден Красного Знамени», то есть заменить Рождество на Новый год.
Оказывается, мешала, пишет он здесь, память о неосознанном тогда прототипе: отец получил свою награду на Пасху.
Как это смогли напечатать?
Я перечитывал «Приоткрытую дверь» и замечал многое: и то, что рассказ «Честное слово» зародился из детского воспоминания о том, как маленький Леша гулял с няней в садике за Покровской церковью в петербургской Коломне. Читал перенесенные в книгу пронзительные религиозные надписи на православных кладбищенских крестах и вглядывался во фразу «Брат мой! За что тебя?» (случайно увиденное тайное купание инвалида с травмой лица). Слушал, как молилась, повернувшись лицом к морю, одесская старуха после того как Пантелеев подал ей найденные еще в Ленинграде три рубля…
«Лавру осмотрел бегло. Стоял за всенощной в огромном монастырском храме…».
И — полторы страницы вдохновенного описания собора.
Бегло?
А что мог вынести проницательный читатель из такой вот ленинградской блокадной записи 1941 года: «Кажется, впервые в истории русской православной церкви этой зимой в Ленинграде не служили Литургии — за неимением муки для просфор. Служили “обеденку”. Что это такое — не знаю». Догадаться тут можно только об одном — этот советский детский писатель между дежурствами по дому во время налетов и варкой столярного клея себе на обед — брел, шатаясь от голода, воскресеньем в церковь.
Признаться, больше всего меня поразил рассказ «Лопатка» из книги «Дом у Египетского моста» — этим сюжетом из детства и открывается книга. Судя по всему, это было еще до начала первой мировой войны. Семья собиралась в гости, и дети, шестилетний Леша и совсем маленький Вася, ждали родителей во дворе. Вася сломал Лешину лопатку и, напугавшись, протянул старшему брату две копейки, найденные им недавно на улице. И тут, не спросив разрешения у взрослых, братья отправились за новым инструментом на рынок. По дороге свернули на хорошо знакомый маршрут — к часовне.
«В глубине часовни за распахнутой дверью мигали в темноте зеленая и малиновая лампады.
— Помолимся зайдем, — сказал я Васе.
— Почему? — удивился Вася.
— Почему? А потому, что все-таки мы с тобой в путешествие отправляемся.
И только тут, сказав эти слова, я вдруг понял, на какое нешуточное дело мы пустились. Поднявшись по каменным ступеням и обнажив стриженые головы, мы чинно ступили в полумрак тесной часовни. В середине ее, перед распятием, на слегка наклоненной, как на папиной конторке, столешнице аналоя лежала икона ближайшего праздника, может быть, Воздвижения. Перед аналоем на серебряном многосвечнике горели, оплывая, две-три восковые свечки. У входа, за свечным ящиком, дремал старичок в сером подряснике».
Тем временем родители запаниковали.
Через полчаса рыдающая мать бросится именно в эту часовню и, упав на колени, начнет молиться. Старенький служитель расскажет ей о мальчиках. В конце концов дети найдутся.
Напоминаю, что это напечатано в книге, изданной в 1980 году тиражом 100 тысяч экземпляров.
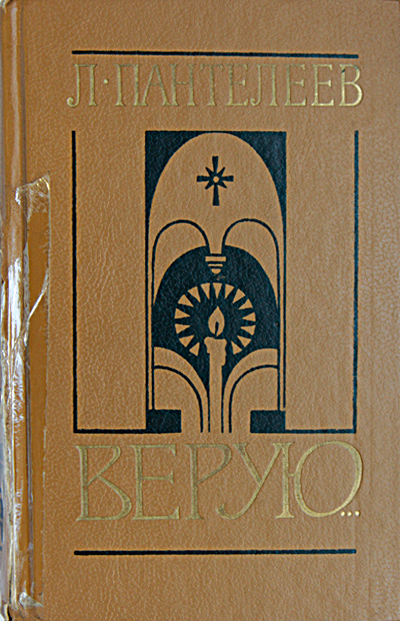
Я рассказал о «Приоткрытой двери» не из-за умиления над датами, но для того, чтобы подчеркнуть: изредка встречающиеся реплики о том, что только в исповедальной книге «Верую…» нам открывается подлинный, неизвестный Пантелеев, — не совсем точны. Внимательный, не малодушный читатель не мог не почувствовать внутреннего света и в этой последней прижизненной книге писателя.
А малодушный, вроде одного «внутреннего» рецензента, писал в «отчете»: «Пожалуй, автор в своем стремлении писать “только правду” несколько увлекся. Он не взвесил, какое воздействие на читателя может оказать та или иная правда и какой отзвук может она вызвать у наших недругов и злопыхателей за рубежом…». Правда, он-то, я думаю, имел в виду совсем не мерцание лампадок, их, я думаю, он и не заметил.
Это я все к тому, что одного без другого не бывает.
Что же до исповедальной повести, то главы из нее можно найти в сети, а саму книгу заказать и купить по интернету. «Верую…» — не только и не столько рассказ о вере, о потере и обретении ее. Не только исторический очерк о жизни Русской Церкви в позднее советское время с ретроспективным взглядом на реальное положение дел со свободой совести в СССР. Это размышления и воспоминания о промысле Божьем, о неоднократном чудесном спасении жизни. Это драматическая история о человеке, тоскующем об открытом исповедании своей веры, о будущих благоприятных обстоятельствах.
То есть — о нашем сегодня, о нас с вами, могущих из будущего разделить его радость:
«Троицын день. Под утро видел счастливый сон. Было это не в церкви, даже не помню где, и я только говорил с кем-то о церкви, и все-таки проснулся полный того горячего счастья, какого давно не испытывал. Вчера вечером собирался в церковь, но помешали дела, засиделась посетительница, и ко всенощной я не попал. За что же так щедро наградил меня Господь — что благодать, которой я лишился под вечер, снизошла на меня под утро Троицына дня?!
Благодарю Тебя, Господи! Да святится имя твое!
Ведь для меня даже записывать что-нибудь на этих страницах — радость. Вероятно, уже давно можно было поставить точку, а я все тяну…»
На заставке: кадр из фильма «Республика Шкид», 1966