Дорогие читатели, мы продолжаем знакомить вас с творчеством лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия. Сегодня мы публикуем отрывок из повести Василия Дворцова «Тогда, когда случится».
Василий Дворцов
Венчание
Из повести «Тогда, когда случится»
Трасса, вырвавшись за серпантинную тесноту Бердска, вольно развилась, широко обходя березовые холмы и просекая изумрудящиеся до горизонта поля озимой пшеницы. Редкие встречные машины со свистящим шорохом ударяли в приоткрытое окно разогретым ветром, и столбы электропередач ровными взмахами проводов отбивали такты сердечного марша.
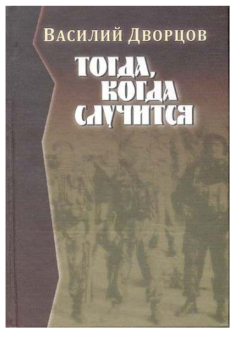 Невысокий и легкотелый, с серо-седой бородкой и такой же сизой косичкой, пятидесятилетний отец Василий что-то долго делал в алтаре, важно проходя туда-сюда за открытыми Царскими вратами, а они напряженно ждали посреди маленького, чрезвычайно уютного сельского храма, хлопая глазами на пестроту росписей по стенам и своду. Саша шепотом рассказывала — кто есть кто. В самой вышине куполка, над узкими вытянутыми окошками, вкруг длинной цепи с новенькой, красно-медной люстрой — «паникадилом» — сошлись Архангелы, под ними расположились Евангелисты. Дальше, за спиной, до самого хорового балкончика по темно-синему арочному потолку выстроились святые, почти все свои, сибирские, потому что храм так и назывался — «Всех святых, в земле Сибирской просиявших». А прямо над ними Божия Матерь в широко распахнутых руках держала белый шарф — омофор. Он означал Ее покровительство над Россией. Справа на стене — сцена Распятия, ну, это-то и Славка понимал, а слева — Вход Господень в Иерусалим. Вернее, въезд на «осляти». Художнику особо удались лица фарисеев, злобствующих в ближнем левом углу. Совсем как живые.
Невысокий и легкотелый, с серо-седой бородкой и такой же сизой косичкой, пятидесятилетний отец Василий что-то долго делал в алтаре, важно проходя туда-сюда за открытыми Царскими вратами, а они напряженно ждали посреди маленького, чрезвычайно уютного сельского храма, хлопая глазами на пестроту росписей по стенам и своду. Саша шепотом рассказывала — кто есть кто. В самой вышине куполка, над узкими вытянутыми окошками, вкруг длинной цепи с новенькой, красно-медной люстрой — «паникадилом» — сошлись Архангелы, под ними расположились Евангелисты. Дальше, за спиной, до самого хорового балкончика по темно-синему арочному потолку выстроились святые, почти все свои, сибирские, потому что храм так и назывался — «Всех святых, в земле Сибирской просиявших». А прямо над ними Божия Матерь в широко распахнутых руках держала белый шарф — омофор. Он означал Ее покровительство над Россией. Справа на стене — сцена Распятия, ну, это-то и Славка понимал, а слева — Вход Господень в Иерусалим. Вернее, въезд на «осляти». Художнику особо удались лица фарисеев, злобствующих в ближнем левом углу. Совсем как живые.
И откуда ей это все известно?
Отец Василий — папин двоюродный брат, и она пять лет назад здесь «на молоке» каникулы проводила, после удаления аппендицита здоровье поправляла. Как раз, когда церковь расписывали. И даже вон тот орнамент помогала раскрашивать. Ага, самый кривой участок.
— Исайя, ликуй… — под срывающееся одинокое пение, вслед за священником они мелкими шажочками трижды обошли аналой и подсвечник. Со скамейки у входной двери за ними внимательно следил таксист. Других свидетелей таинству не было.
— Венчается раб Божий Владислав рабе Божией Александре… венчается раба Божия Александра рабу Божьему Владиславу… — кольца, с которых они не догадались сорвать бирки, непривычно тяжелили пальцы, а надетые короны совсем не подходили по размеру — у него она едва держалась на макушке, а Саша, наоборот, утонула в своей по брови.
От придерживаемого дыхания сердце колотилось как у бешеного кролика. А еще он никак не мог запомнить от какого плеча к какому нужно накладывать крест и хитрил, чуть запаздывая за Сашей.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!
Глоточек густого вина ударил жаром в лицо и, сняв напряжение, заполнил тело теплой ликующей радостью. Словно в и так светлое помещение через окна долилось еще больше солнца, ослепительно расплескавшегося на золотой лепнине иконостаса, изгибах паникадила, высоких ножках подсвечников и бело-серебряной ризе.
— Ну, молодые, поцелуйтесь. — Отец Василий и сам улыбался им отчего-то с явным облегчением. Мелкие морщинки сжимались-сходились вокруг искрящих лаской точек зрачков, коротко подрезанные усики топорщились над большими, не по черепу, редкими зубами. — Поздравляйте ж друг друга!
В низеньком, обмазанном глиной и выкрашенном в желтое, соседнем с храмом домике, чистенькая до восковой полупрозрачности старушка — Татьяна Семеновна — в белом платочке под завязанной накрест пушащейся шалью, уже накрыла в «зале» стол, на который таксист выложил их яблоки, бананы, апельсины и торт, выставил две бутылки шампанского, а рядом от местных щедрот дымились по железным тарелкам пельмени, белела облитая сметаной гора крупного домашнего творога и, прямо на вязанных кружевных салфетках, пестрили разнокрашенные — с прошедшей две недели назад Пасхи — яйца.
— Вот, вы слышали сегодня: «кого Бог сочетает, человек да не разлучит». Великая формула для устроения всей вашей будущей жизни, если вдумаетесь. Ведь любовь — единственное, что соединяет истинно, потому что в Писании сказано: Любовь и есть сам Бог. Но, только в понимании любви — не как жажды чем-то обладать, не в страстном эгоизме, а, наоборот, в полной жертвенности, безостаточной самоотдаче: «я люблю тебя, значит, я твой», — и покрывает брачный союз Божья благодать. И, действительно, когда двое вот так любят друг друга, когда они отдают друг другу всю свою душу, разве может что-то и кто-то их разъять, разлучить? Нет такой силы, ни человечьей, ни бесовской. Запомните: слияние душ в Божественной Любви — единственно настоящее, непреходящее счастье, другого на земле нам не дано. А так как человек существо не только душевное, но и плотское, то отсюда ему и еще одна радость — чадо. Никогда не разлучиться мужу и жене, после того, как у них родилось дитя. «Да будут единая плоть» — и вот ваш ребенок навсегда наследует черты и характеры вас обоих, он навсегда равно и мамин и папин. Малый такой ребеночек, а в нем вы уже нераздельны, в подобие Святой Троицы: три ипостаси в единой природе.
Славка, поймав момент, когда отец Василий отвлекся на закуску, тихонько подтолкнул Сашу плечом:
— Родишь мне сына?
— Сначала дочь.
— Это еще почему?
— А чтоб помогала с младшими нянчиться.
— Ты что, сказку про гусей-лебедей не читала? Чтобы она своего братца проморгала? Не смей мне перечить — сына первым! Защитника!
— Чего-чего не сметь?
— Ничего не сметь. Вот как батюшка сказал: «да убоится жена мужа своего»!
— Ох, и боятся оне нас! — Отец Василий смеялся заразительно, рассыпчато, опять пряча блестящие глазки в зажимы морщинок. И за ним нельзя было не рассмеяться остальным. Только Семеновна у печи печально подпирала щеку черной ладонью, отстраненно ожидая окончания застолья. А, может, у нее болел зуб?
Пустынная улица мелькала и щебетала черными с малиновым, низко пролетающими росчерками ласточек. Припыленная вдоль некрашеного церковного забора кипень мелкой аптечной ромашки млела в ожидании дождя — плотно взбитые, густые облака с юга наползали медленно, но явно с серьезными намерениями.
У «волги» стоял, как вначале показалось, мальчишка, тыча пальцем в шашечки вдоль всего кузова, словно их пересчитывая. Таксист уже дернулся заорать, но разглядел, что это не ребенок, а крохотный горбун.
— Гоша, а чего ты не зашел? Пообедал бы с нами? — Отец Василий попытался заглянуть в лицо отворачивающегося от него немолодого уже, большеголового худенького человечка в сером ушитом плащике и ярко-синих женских сапогах с белыми каблуками. — Ты чего, опять на что-то обиделся?
Горбун рывком увернулся от священника, отшагнул, быстро и жадно осматривая снизу вышедшую компанию.
— Ну, вот. Опять за свое! Это — Гоша. Он у нас человек особенный, у него сны вещие.
— Это как?
Гоша сердито метнул взгляд в улыбающуюся Сашу. И неожиданно пропищал:
— А я тебя помню!
— Вот вещие, и все. Увидит он, к примеру, под утро, что батюшка его за что-нибудь ругает, и верит, что такое вот-вот случится.
— А если не произойдет?
— Так он специально напросится. Для верности своему сну.
— Я тебе про пожар в кочегарке точно предсказал, — вскинул головой Гоша. — И про то, когда епископ умрет.
— Один раз — это случайность, второй раз — совпадение. Вот когда ты в третий раз вправду проречешь, тогда только поверю в закономерность. Чего сегодня-то приснилось?
Горбун чуть покачивался на высоких каблучках, разной длины его руки с толстыми прокопченными пальцами прихлопывали набитые чем-то карманы, а землисто-серое личико выказывало полное презрение к подкалывающему его отцу Василию. Однако, за детски выпяченной нижней губой, за гордо завернутыми на близящиеся облака серо-желтыми белками, Гоше никак не удавалось скрыть внутреннее, зудящее напряжение — ну, не зря же он тут целый час поджидал их выхода. И, опять стрельнув взглядом в Сашу, Гоша по-старушечьи сердито задишконтил:
— Ну, ты чего лыбисся? Смотрись-ка лучше в зеркала, пока они тебя отражают! Спеши, вглядывайся. А ты, солдат, не ходи спиной. Коли взял что, не отступайся.
Некоторое время они все молчали, глядя, как неловкой припадающей походкой маленький человечек удаляется вдоль притихшей под наплывающей тенью улицы.