На языке потустороннем
- Автор обзора: Сергей Арутюнов
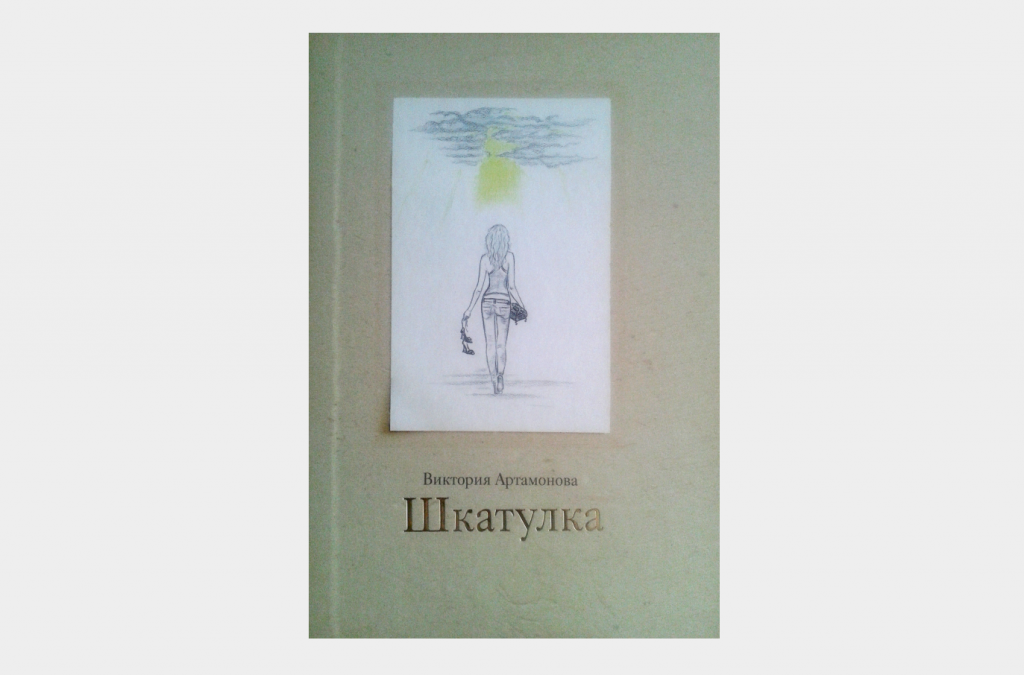
Виктория Артамонова. Шкатулка / Виктория Артамонова; [рис. В.Артамонова]. – М., 2017. – 320 с., ил.
Проникающая сквозь все сословия сверху донизу, Вера преображает даже те из них, про которые сказано в притче о верблюде и игольном ушке. Может быть, как раз к ним-то она и внимательна особым образом – просты ли, сохранили ли непосредственность восприятия, отзывчивы ли, не утеряли ли за балансами главного – человечности.
Оказывается, если и утеряли, то не все.
***
В коротких, на две-три страницы крупным шрифтом, притчах Виктории Артамоновой мелькают традиционные места обитания имущих россиян, Лондон и Ницца, но чувствуется, что эти приметы – не очередной повод для бахвальства, но нечто антуражно-сущностное.
Автор обращается к православной мистике, отталкиваясь от многообразия впечатлений, которое рано или поздно каждому живущему приходится суммировать, обобщать, превращать в более-менее структурированный склад опыта. В данном случае – «шкатулку». Так что же взять с собой туда, куда нельзя взять, например, пин-коды дебитовых карт и номера банковских счетов?
…Увидеть сложное за простым, упростив стиль до полнейшего примитива сегодня, в эпоху «кофейной», то есть, читаемой за чашечкой кофе литературы, задача вполне исполнимая. Чудится за такой постановкой некая искусственность, но, возможно, автор своего стиля не выбирал: он пришёл к нему самовластно и самочинно из того книжного пласта, который наиболее близок его самоощущению, того, которому он привык доверять с детства.
***
В конце концов, стилистическая мешанина постмодернистских начал, если вспомнить Г.Гессе с его «Игрой в бисер», вконец запутавшая даже вернейших своих адептов, отчасти позади, и если цивилизацию и ждёт «нечто», то предельное упрощение всего и вся. Пессимистическое утверждение, но, тем не менее: социалистический опыт провален, возврат к изначальной, вековой давности проблематике, неизбежен.
Тогда – так: одним Господь дал то-то и то-то, другим, скажем так, несколько меньше, ибо равенства в дарвинистической природе нет, но гневаться на неё не стоит, а стоит искать во всём этом хаосе беззастенчивого воровства великие смыслы, навсегда забыв об идее социальной справедливости. Кто много работает, тот и имеет много от трудов своих, а кто ленится, тот… в общем, перечитайте Сельму Лагерлёф и Лидию Чарскую, и премного почерпнёте, дорогие де… взрослые.
Да-да, век назад так и полагали авторы, в чью стилистику проникала и оставалась в ней навсегда светлая сусальность, которой автор изо всех сил пытается заставить верить: отсюда частое употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов, порой – заговаривание в умилении перед «простыми явленьями».
Перечислим сюжеты: вот отмаливается заболевший ребёнок, вот кислотный юноша, отправленный в столицу Великобритании и обеспеченный по горло, становится тихим монастырским послушником.
А вот сюжет почти чеховский: в трамвае (sic!) встречаются одноклассники – богатый и бедный. Бедный приятель, разумеется, жалуется, а богатый друг сияет: брось, старик, измени отношение, и дело в шляпе! Немного оптимизма, и машина твоя выпрыгнет из ремонта, и жена сделается благосклоннее, и дети начнут учиться, как звери! Меняйся, и изменишься. Спасайся, и спасёшься. Вот – я: бизнес прёт, личный водитель едет за мной на джипе, потому что мне захотелось проехаться с людьми. ОК?
Господи, как это напоминает манеру вечно бодрых американских проповедников, но – понимание есть понимание, и другого ожидать было бы странно. А что, вы хотите Сталина и расстрелов? Нет, не хотим. Ну и всё. Ну и ОК.
Или вот сценка: бедный студент не решается подойти к красотке в метро, и автор сетует на него – а почему, собственно?! Господь открывает такой шанс! Автор органически не способен понять, что даже в метро, куда спускаются порой все, можно по одежде, по манере понять, твоего ли это класса, твоей ли социальной прослойки этот попутчик, и стоит ли вообще связываться.
Артамонова намекает, что культура у постсоветского народа – одна. Ей снится Великая Отечественная, она способна плакать над чужим горем, но язык её порой кажется поразительно отдалённым от того, на котором говорит большинство населения нашей великой страны. Отчего? Почему он кажется застланным неким сияющим покровом, будто занавесью отделяющей нас от них, притом, что никаких «нас» и «их» для Церкви и Бога нет и быть не может?
***
Это нормальные
призывы – проповедь милосердия, сострадания, осознания ценности каждой участи и каждого мгновения. Старик, русский эмигрант рассказывает, по сути, кошмарную сагу о женщине, которую любил всю жизнь, но которая всю дорогу ему изменяла. Вывод? «Любите, и ничего не требуйте». Но вот другая крайность: студентка бросает вуз, чтобы выйти замуж, а муж уходит от неё, и – ни образования, ни денег, ни карьеры. Ни-че-го. «Не жертвуйте, если вас об этом не просят».
Из наслаивающихся друг на друга контуров женских историй, наивно щебечущих детских сказок, напоминающих школьные сочинения (мальчик жалеет надрезанные ради сока берёзы, девочка мучится украденной конфетой, снова мальчик жалеет, но уже пчелу) медленно вырисовывается основной: цветаевское требование Веры и цветаевская же просьба о любви.
***
- Да провались этот ваш молебен к чёртовой матери! – выкрикивает женщина, опоздавшая приехать к умершим родителям, но спустя мгновение, поднятая стариком с лавки, идёт к храму.
- Да ты чего, какая любовь? Кому нужен этот пережиток прошлого? – усмехается богатая невеста богатого жениха – тут бы и закончить, потому что они действительно так думают и заставляют так думать
всех нас, но автор тихо говорит – «всем». Наверно.
Микро-действие (приятие больного псориазом ребёнка, спасение червяков-выползков) становится в этой системе координат решающим: с него вроде бы начинается большая дорога. А как насчёт глобального выбора, решений, которые принимаются один раз в жизни?
Про одного из средних начальников моя мать как-то сказала: порядочный человек, но не от порядочности, он просто боялся воровать. Так и в некоторых случаях чрезвычайной социальной и имущественной защищённости: рассуждать о милосердии и добре могут люди, у которых слишком многое в порядке. Например, то же материальное начало, которое порой ещё более вездесуще, чем Вера.
Счастливцы! О нет, не праздные, напротив – суетные, в чью суету и суетное же стремление к правде и признанию уже не нами, а Высшим Началом, верится даже с избытком. Немного хуже обстоит дело со стихами, которые – вполне на стихирском уровне, чуть ниже – также встречаются в «Шкатулке».
И вместо крыльев лепестки от полевых цветов
На спинке у него сияли, вдруг…
Мушка в сеть к нему попалась – и паук,
Забыв про обещание, её сожрал!
- в подобных не совсем ловких басенных конструкциях (особенно вопиющи стихотворные отрывки в рассказе «Дневник») и кроется разгадка верблюжье-игольной дилеммы, но располагающаяся уже «нигде, кроме как» в отечественной словесности: хотелось бы быть поэтом, но никакая изысканность слога к бьющей горлом поэтике не приближает. Получаются – стихи в прозе, иногда со смыслом, иногда «берущиеся» одной восхищённой бытием эмоцией с обоснованной претензией на опытность и даже некую прозорливость. Но…
Приходится с лёгкой улыбкой констатировать: в России появилась духовная литература для высшего среднего класса, и это, наверно, прекрасно с той точки зрения, что этому классу, с его взбалмошностью и поистине чудовищными перепадами поведения, настроения и сознания, нужно что-то на своём языке изъяснять себе самоё себя.
Была же, в конце концов, манерная литература, так почему бы не быть слегка манерному исповеданию? Простим, ибо такова планида христианина – прощать.
Сергей Арутюнов