Книга, к которой я постоянно возвращаюсь, — бестселлер «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. В молодом возрасте проблемы общества, пожалуй, волнуют нас меньше своих собственных, поэтому тогда я воспринимал это произведение только с точки зрения юношеского максимализма — самобытность против массовости. Я повзрослел, мир поменялся. И в какой-то момент, встретившись с романом снова, я понял, что он про сейчас, про сегодня, про всех нас. Мы уже живем в будущем, которое сами себе намечтали. Именно поэтому я поставил «О дивный новый мир» в театре «Модернъ» — чтобы взглянуть на самих себя со стороны: в кого и во что мы превращаемся без веры, без работы над собой. Сегодня люди готовы работать над своим телом (это возведено в культ), а не над своей душой. Прочитать, чтобы ужаснуться? Нет. Прочитать, чтобы задуматься и начать возвращение к человечности.
Автор

Олдос Хаксли (1894–1963) — классик английской прозы ХХ века.
Его творческий путь начался в духовной атмосфере послевоенных лет — первая мировая война подорвала веру в прогресс у многих людей, в том числе у Хаксли. Тема утраты человечности, которая происходит на фоне научно-технического развития, стала определяющей для всего творчества писателя.
О чем книга?
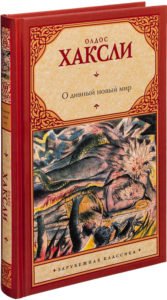
Действие разворачивается в далеком будущем в вымышленном Мировом Государстве, девиз которого: «Общность, одинаковость, стабильность». Людей здесь штампуют на особых предприятиях, делят на касты, прививают рефлексы, «нелюбовь к природе» и те свойства, которые нужны для их функционирования в разных сферах стандартизированного общества. В таком обществе не существует института брака, а слова «мать» и «отец» считаются неприличными. «Счастье» достигается за счет строгой регламентации всех действий и обязательного приема «сомы» — «безвредного» наркотика. Книга описывает жизнь людей, которые не принимают этот примитивный коллективный «дивный новый мир» и бросают ему вызов.
Смысл произведения
Хаксли выражает безрадостный взгляд на будущее человечества, в котором личность будет «подавлена и стандартизирована». Ради «всеобщего счастья» в «дивном новом мире» искажены все ценностные ориентиры. В обществе удовольствия, благополучия и омашинивания нет места искусству, науке и религии. Библия и богословские труды считаются «неприличными книгами», а многие люди о них и вовсе не слышали («Бог не совместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем»). Хаксли показывает, насколько холоден и искусственен человек, не испытывающий сильных переживаний, которому чужды семейные ценности, верность и привязанность. Все живут сегодняшним днем, прошлого не существует («История — сплошная чушь»). В жизни общества ликвидировано все возвышенное и вызывающее сильные эмоции, так как это порождает нестабильность в умах людей. Если все смогут рассуждать и тонко чувствовать, то стабильность рухнет. Дивный новый мир оказывается бездушным миром физиологических инстинктов и эгоизма.
Интересные факты

По произведению Хаксли сняты кинофильмы и поставлены спектакли во многих странах мира. В России одной из последних театральных адаптаций романа-антиутопии стал одноименный спектакль режиссера-постановщика Юрия Грымова.

Хаксли подвергал критике безнравственные и бездуховные идеалы современного ему общества, интересовался судьбой человеческой цивилизации и индустриальным прогрессом на протяжении всего творческого пути, начиная с самого первого своего романа «Желтый Кром» (1921). Остросоциальные мотивы по-своему преломляются и в других произведениях (в том числе в романе «Контрапункт» и последнем романе-аллегории Хаксли — «Остров» (1962).

Роману предпослан эпиграф из книги «Новое средневековье» русского философа Николая Бердяева, который рассуждает о том, что так называемые «утопии» все же осуществимы, имея в виду стремящихся к власти нацистов, «корпоративное» государство Муссолини и «коммунистический эксперимент». Хаксли, вслед за Бердяевым, считал, что идеал — в «несовершенном», но свободном, «неутопическом» обществе.
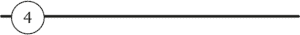
В заглавие романа вынесена строчка из трагикомедии «Буря» (1612) Уильяма Шекспира, где героиня Миранда произносит: «О чудо… Сколько вижу я красивых созданий! Как прекрасен род людской… О дивный новый мир, где обитают такие люди». Явные и скрытые цитаты из английского поэта и драматурга играют значительную роль в тексте романа.

В 1958 году Хаксли публикует нехудожественное продолжение романа — «Возвращение в дивный новый мир», где он рассуждает, насколько приблизился или отдалился мир от описанного им в романе почти 30-летней давности, и приходит к выводу, что общество движется к «дивному миру» намного быстрее, чем он думал.
Что вы выбираете: Бога или сому?
Отрывок из романа-антиутопии «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли —о том, как один из главных героев, «Дикарь» Джон, спорит с Главноуправителем Мирового Государства о Боге.
 скусством пожертвовали, наукой, — немалую вы цену заплатили за ваше счастье, — сказал Дикарь, когда они с Главноуправителем остались одни. — А может, еще чем пожертвовали?
скусством пожертвовали, наукой, — немалую вы цену заплатили за ваше счастье, — сказал Дикарь, когда они с Главноуправителем остались одни. — А может, еще чем пожертвовали?
— Ну, разумеется, религией, — ответил Мустафа. — Было некое понятие, именуемое Богом — до Девятилетней войны. Но это понятие, я думаю, вам очень знакомо.
— Да… — начал Дикарь и замялся. <…>
Главноуправитель тем временем отошел в глубину кабинета, отпер большой сейф, встроенный в стену между стеллажами. Тяжелая дверца открылась.
— Тема эта всегда занимала меня чрезвычайно, — сказал Главноуправитель, роясь в темной внутренности сейфа. Вынул оттуда толстый черный том. — Ну вот, скажем, книга, которой вы не читали.
Дикарь взял протянутый том.
— «Библия, или Книги Священного писания Ветхого и Нового завета», — прочел он на титульном листе.
— И этой не читали, — Монд протянул потрепанную, без переплета книжицу.
— «Подражание Христу».
— И этой, — вынул Монд третью книгу.
— Уильям Джеймс «Многообразие религиозного опыта».
— У меня еще много таких, — продолжал Мустафа Монд, снова садясь. — Целая коллекция порнографических старинных книг. В сейфе Бог, а на полках Форд, — указал он с усмешкой на стеллажи с книгами, роликами, бобинами.
— Но если вы о Боге знаете, то почему же не говорите им? — горячо сказал Дикарь. — Почему не даете им этих книг?
— По той самой причине, по которой не даем «Отелло», — книги эти старые; они — о Боге, каким он представлялся столетия назад. Не о Боге нынешнем.
— Но ведь Бог не меняется.
— Зато люди меняются.
— А какая от этого разница?
— Громаднейшая, — сказал Мустафа Монд. Он встал, подошел опять к сейфу. — Жил когда-то человек — кардинал Ньюмен… Вот и книга его… И, раскрыв книгу на листе, заложенном бумажкой, он стал читать: — «Мы не принадлежим себе, равно как не принадлежит нам то, что мы имеем. Мы себя не сотворили, мы главенствовать над собой не можем. Мы не хозяева себе. Бог нам хозяин. И разве такой взгляд на вещи не составляет счастье наше? Разве есть хоть кроха счастья или успокоения в том, чтобы полагать, будто мы принадлежим себе? Полагать так могут люди молодые и благополучные. Они могут думать, что очень это ценно и важно: делать все, как им кажется, по-своему, ни от кого не зависеть, быть свободным от всякой мысли о незримо сущем, от вечной и докучной подчиненности, вечной молитвы, от вечного соотнесения своих поступков с чьей-то волей. Но с возрастом и они в свой черед обнаружат, что независимость не для человека, что она для людей не естественна и годится разве лишь ненадолго, а всю жизнь с нею не прожить…» — Мустафа Монд замолчал, положил томик и стал листать страницы второй книги. — Ну вот, например, из Бирана, — сказал он и снова забасил: — «Человек стареет; он ощущает в себе то всепроникающее чувство слабости, вялости, недомогания, которое приходит с годами; и, ощутив это, воображает, что всего-навсего прихворнул; он усыпляет свои страхи тем, что, дескать, его бедственное состояние вызвано какой-то частной причиной, и надеется причину устранить, от хвори исцелиться. Тщетные надежды! Хворь эта — старость; и грозный она недуг. Говорят, будто обращаться к религии в пожилом возрасте заставляет людей страх перед смертью и тем, что будет после смерти. Но мой собственный опыт убеждает меня в том, что религиозность склонна с годами развиваться в человеке совершенно помимо всяких таких страхов и фантазий; ибо, по мере того как страсти утихают, а воображение и чувства реже возбуждаются и становятся менее возбудимы, разум наш начинает работать спокойней, меньше мутят его образы, желания, забавы, которыми он был раньше занят; и тут-то является Бог, как из-за облака; душа наша воспринимает, видит, обращается к источнику всякого света, обращается естественно и неизбежно; ибо теперь, когда все, дававшее чувственному миру жизнь и прелесть, уже стало от нас утекать, когда чувственное бытие более не укрепляется впечатлениями изнутри или извне, — теперь мы испытываем потребность опереться на нечто прочное, неколебимое и безобманное — на реальность, на правду бессмертную и абсолютную. Да, мы неизбежно обращаемся к Богу; ибо это религиозное чувство по природе своей так чисто, так сладостно душе, его испытывающей, что оно возмещает нам все наши утраты». — Мустафа Монд закрыл книгу, откинулся в кресле. — Среди множества прочих вещей, сокрытых в небесах и на земле, этим философам не снилось и все теперешнее, — он сделал рукой охватывающий жест, — мы, современный мир. «От Бога можно не зависеть лишь пока ты молод и благополучен; всю жизнь ты независимым не проживешь». А у нас теперь молодости и благополучия хватает на всю жизнь. Что же отсюда следует? Да то, что мы можем не зависеть от Бога. «Религиозное чувство возместит нам все наши утраты». Но мы ничего не утрачиваем, и возмещать нечего; религиозность становится излишней. И для чего нам искать замену юношеским страстям, когда страсти эти в нас не иссякают никогда? Замену молодым забавам, когда мы до последнего дня жизни резвимся и дурачимся по-прежнему? Зачем нам отдохновение, когда наш ум и тело всю жизнь находят радость в действии? Зачем успокоение, когда у нас есть сома? Зачем неколебимая опора, когда есть прочный общественный порядок?

— Так, по-вашему, Бога нет?
— Вполне вероятно, что он есть.
— Тогда почему?..
Мустафа не дал ему кончить вопроса.
— Но проявляет он себя по-разному в разные эпохи. До эры Форда он проявлял себя, как описано в этих книгах. Теперь же…
— Да, теперь-то как? — спросил нетерпеливо Дикарь.
— Теперь проявляет себя своим отсутствием; его как бы и нет вовсе.
— Сами виноваты.
— Скажите лучше, виновата цивилизация. Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем. Приходится выбирать. Наша цивилизация выбрала машины, медицину, счастье. Вот почему я прячу эти книжки в сейфе. Они непристойны. Они вызвали бы возмущение у чита…
— Но разве не естественно чувствовать, что Бог есть? — не вытерпел Дикарь.
— С таким же правом можете спросить: «Разве не естественно застегивать брюки молнией?» — сказал Главноуправитель саркастически.
— А все равно, — не унимался Дикарь, — в Бога верить естественно, когда ты одинок, совсем один в ночи, и думаешь о смерти…
— Но у нас одиночества нет, — сказал Мустафа. — Мы внедряем в людей нелюбовь к уединению и так строим их жизнь, что оно почти невозможно <…>
— Если бы вы допустили к себе мысль о Боге, то не унижались бы до услаждения пороками. Был бы тогда у нас резон, чтобы стойко переносить страдания, совершать мужественные поступки. Я видел это у индейцев.
— Не сомневаюсь, — сказал Мустафа Монд. — Но мы-то не индейцы. Цивилизованному человеку нет нужды переносить страдания, а что до совершения мужественных поступков, то сохрани Форд от подобных помыслов. Если люди начнут действовать на свой риск, весь общественный порядок полетит в тартарары.
— Ну а самоотречение, самопожертвование? Будь у вас Бог, был бы тогда резон для самоотречения.
— Но индустриальная цивилизация возможна лишь тогда, когда люди не отрекаются от своих желаний, а, напротив, потворствуют им в самой высшей степени, какую только допускают гигиена и экономика. В самой высшей, иначе остановятся машины.
— Был бы тогда резон для целомудрия! — проговорил Дикарь, слегка покраснев.
— Но целомудрие рождает страсть, рождает неврастению. А страсть с неврастенией порождают нестабильность. А нестабильность означает конец цивилизации. Прочная цивилизация немыслима без множества услаждающих пороков.
— Но в Боге заключается резон для всего благородного, высокого, героического. Будь у вас…
— Милый мой юноша, — сказал Мустафа Монд. — Цивилизация абсолютно не нуждается в благородстве или героизме. Благородство, героизм — это симптомы политической неумелости. В правильно, как у нас, организованном обществе никому не доводится проявлять эти качества. Для их проявления нужна обстановка полнейшей нестабильности. Там, где войны, где конфликт между долгом и верностью, где противление соблазнам, где защита тех, кого любишь, или борьба за них, — там, очевидно, есть некий смысл в благородстве и героизме. Но теперь нет войн. Мы неусыпнейше предотвращаем всякую чрезмерную любовь. Конфликтов долга не возникает; люди так сформованы, что попросту не могут иначе поступать, чем от них требуется. И то, что от них требуется, в общем и целом так приятно, стольким естественным импульсам дается теперь простор, что, по сути, не приходится противиться соблазнам. А если все же приключится в кои веки неприятность, так ведь у вас всегда есть сома, чтобы отдохнуть от реальности. И та же сома остудит ваш гнев, примирит с врагами, даст вам терпение и кротость. В прошлом, чтобы достичь этого, вам требовались огромные усилия, годы суровой нравственной выучки. Теперь же вы глотаете две-три таблетки — и готово дело. Ныне каждый может быть добродетелен. По меньшей мере половину вашей нравственности вы можете носить с собою во флакончике. Христианство без слез — вот что такое сома.
— Но слезы ведь необходимы (…) Все неприятное вы устраняете — вместо того, чтобы научиться стойко его переносить. «Благородней ли терпеть судьбы свирепой стрелы к каменья или, схватив оружие, сразиться с безбрежным морем бедствий…». А вы и не терпите, и не сражаетесь. Вы просто устраняете стрелы и каменья. Слишком это легкий выход… Вам бы именно слезами сдобрить вашу жизнь, — продолжал Дикарь, — а то здесь слишком дешево все стоит.
Перевод с английского О. Сороки
Фома