Книгу рекомендует писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов
Все ждали от Бородина политики, борьбы, а он написал историю про тайну детства, поэзию человеческого взросления. Эта повесть была его отдушиной, его противоядием, она помогала ему выстоять. Конечно, когда читаешь историю мальчика и его таинственных встреч со старухой Сармой, читаешь про Байкал, его легенды, про детские игры, рыбалку, походы в горы, то меньше всего приходит в голову, что это написал человек, вставший на путь вооруженной борьбы с советской властью. Невозможно поверить, что его судили по статье, предполагающей смертный приговор, что он отсидел много лет в тюрьме, потом занялся литературой, был арестован вторично при Андропове и должен был сидеть едва ли не до смерти.
Когда я читаю и перечитываю «Год чуда и печали», то представляю одиночную камеру в пермском лагере и ее упрямого арестанта. «Железный Бородин» звали его в КГБ, где ничего не могли с ним поделать. И именно потому, что у него был «Год чуда и печали» — это концентрат духовной силы человека. Там нет ни проповеди, ни морали, ни обличения, нет никакого особенного подтекста, эту книгу вполне можно и нужно даже включить в школьную программу и не бояться, что прочитавшие ее дети вырастут бунтарями. Она в равной степени понравится и девушкам, и юношам, потому что в эту сказку вложено лучшее, что есть в человеческой душе. Опыт любви, веры, надежды, благодарность за жизнь, которая тебе дана. «Значит, нужные книги ты в детстве читал», — пел Высоцкий. Бородин не только нужные книги читал, но и поразительную жизнь прожил, по-настоящему, а не показушно любил свою Родину, большую и малую.
Автор

Леонид Иванович Бородин (1938–2011) — писатель, публицист. Родился в Иркутске и провел свое детство у скал Байкала, в поселке Маритуй, работал на Круглобайкальской железной дороге.
В 1965 году Бородин вступил в подпольный «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа», главной задачей которого было «возрождение православных традиций». В 1967 году «союз» был разгромлен властью, а Бородин обвинен в антиправительственной деятельности и арестован. Всего в лагерях писатель провел одиннадцать лет.
Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» создан на месте исправительно-трудовой колонии, в которой Леонид Бородин отбывал срок с 1982 по 1987 годы. Фото Ильи Буяновского.




Время написания и история создания
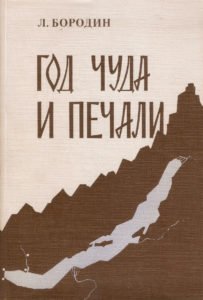
Первый вариант книги, изначально ориентированный на взрослого читателя, был написан Бородиным в начале 1970-х гг. — во время заключения во Владимирской тюрьме, куда он попал по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Как признавался сам Бородин, именно тюрьма подтолкнула его к писательству — так он хотел уйти от тяжелой арестантской действительности. Написанную в небольших тетрадках повесть Бородин читал своим сокамерникам, некоторые из которых, по воспоминаниям его самого, плакали, дослушав историю до конца. После освобождения Бородин переписал повесть заново, с изменениями, уже в начале 1980-х годов.
Содержание
«Год чуда и печали» — это история двенадцатилетнего мальчика, который переехал вместе с родителями в железнодорожный поселок близ Байкала. С юным героем происходят как веселые, так и печальные, а порой и вовсе загадочные события, которые вместились в один год, проведенный им в поселке на берегу озера.
Со вполне реальными историями о ловле рыбы и походами в лес за кедровыми шишками смешиваются почти фантастические истории о запретной скале, старинном замке, старухе-колдунье, байкальские легенды о Енисее и Ангаре.
Прошлое и настоящее в произведении сливаются, высвечивая вечный, непреходящий характер проблем, которые поднимает писатель. Две сюжетные линии — реальная и мифическая — позволяют автору провести параллели между легендарными героями и героями настоящего времени, сравнить и противопоставить их. В конце повести повзрослевший и обновленный герой навсегда уезжает из поселка вместе с родителями.
Смысл заглавия
«Не все необычное есть чудо. Чудо — понятие нравственное», — пишет автор. Главное чудо, считает автор, происходит в наших душах. В произведении происходит несколько таких чудесных преображений: «чудо прощения, чудо нравственного взросления мальчика, чудо влияния природы на душу человека, чудо искреннего раскаяния и чудо осознания своей вины». И любое чудо, любое преображение, по мысли Бородина, невозможно без внутренних противоречий, страданий, печали и готовности людей освободить ближнего от горя: «Печали и горя не бывает без человека».
Интересные факты
1
В 2007 году за книгу «Год чуда и печали» Леонид Бородин получил известную литературную премию «Ясная Поляна». Критики назвали повесть «светлейшим произведением русской литературы последней четверти века».
2
Бородин — продолжатель духовно-нравственной линии классической русской литературы — Толстого и Достоевского. Любимым направлением писателя в литературе была «деревенская проза». Бородина нередко ставят в один ряд с Валентином Распутиным и Василием Беловым.
3
Сам Бородин никогда не называл литературу своей профессией и считал себя не писателем, а любителем: «Я общался с профессиональными писателями — это их работа. Для меня никогда это не было работой».
4
На протяжении практически двадцати лет, начиная с 1992 года, Бородин возглавлял литературный журнал «Москва»: «Политику журнала мы определили в соответствии с политической ситуацией. В смутное время нужно делать ставку не на партию и не на личность, а только на идею, идеей же должна стать государственность, по мере возможности православная. Мы понимали всю сложность задачи. Под угрозой стояла сама российская государственность, большинство граждан России были атеистами. Но другой созидательной идеи быть не могло».
На высоте человеческого полета
Отрывок из повести Леонида Бородина «Год чуда и печали»
 удо — это то, что вопреки! Чудо — это то, чего, как правило, не бывает! А бывает оно, следовательно, вопреки правилам!.. Никаких тридевятых земель и никаких тридесятых царств!
удо — это то, что вопреки! Чудо — это то, чего, как правило, не бывает! А бывает оно, следовательно, вопреки правилам!.. Никаких тридевятых земель и никаких тридесятых царств!
Не все необычное есть чудо. <…>
Я был уже у самого подножья скалы… Надо было возвращаться назад. Но почему-то следующий шаг я сделал не назад, а вперед, и этот шаг был шагом вверх. Вопреки желанию и намерению, поддаваясь приятному чувству упрямства, я начал карабкаться на скалу, вовсе не надеясь добраться до вершины — я же видел, какая это скала! Но каждый раз, собираясь остановиться, говорил себе: «Ну, еще немножко, еще немножко, а там дальше все равно не залезешь!» И, как ни странно, каждый шаг казался последним возможным и следующий метр в высоту, всего лишь за метр до него, тоже казался совершенно недоступным, но нога вдруг находила опору, рука находила уступ, так, как будто сама возможность подъема делала для меня обязательным мои шаги. Иногда даже и вплотную казалось — все, дальше ходу нет, и мне бы вернуться, но не свойственная вовсе мне добросовестность толкала на поиски вариантов, на внимательный, тщательный осмотр скалы вправо и влево, и, глядишь, либо вправо находился проход, либо влево обнаруживался обход, либо впереди трещинку нужную не сразу заметил.
Я лез и лез, и уже всерьез начинала тревожить мысль о возвращении, я же знал, что спускаться будет труднее! К тому же все время был соблазн взглянуть вниз, хотя вполне хватало благоразумия этого не делать.
Сколько прошло времени, пока я лез, как высоко я забрался, сколько еще до вершины — ни о чем об этом я не думал. И когда передо мной выросла очередная каменная стенка, я уже привычными движениями стал ощупывать ее руками и взглядом и в изумлении замер, когда не обнаружил никакой возможности взбираться дальше. Изумление перешло в оцепенение… Прекращение подъема казалось нелепостью, обидой, обманом, которого будто бы я вовсе не заслужил. Немного придя в себя, я увидел, что нахожусь на скалистой площадке, где даже можно сесть отдохнуть и подумать, наконец, обо всем происходящем. Я сел и, уже сидя, рискнул повернуться лицом к пропасти, ведь все равно придется поворачиваться, чтобы спуститься. Я боялся, что закружится голова, что испугаюсь пустоты и крутизны, но ничего этого не случилось, а совсем наоборот! Дыхание мое перехватило всепоглощающее чувство восторга.
Передо мной и подо мной лежала страна голубой воды и коричнево-желтых скал. Передо мной был не просто красивый вид вдаль — передо мной был мир красоты, о которой мало что можно сказать словами, от него можно только пьянеть и терять голову.
Чувствовать красоту мира — ведь это значит — любить! Это значит все прочие чувства на какой-то миг превратить в любовь, которая становится единственным языком общения души с красотой мира.
Это чувство любви и жажды любви захватило меня и словно не только подняло над миром, но и сделало меня равным ему, и я получил возможность удовлетворить неосознанное желание обнять этот чудесный мир и радостными слезами смеяться ему в лицо!
И после много раз я испытывал подобное, но всегда чего-то чуть-чуть не хватало в моей радости, и я до слез жалел, что в тот день, в тот миг не попробовал летать! До сих пор сохранилась у меня наивная уверенность, что тогда я мог полететь, мог пролететь над миром, потому что было такое мгновение, когда во мне не осталось ничего, препятствующего полету!
Полет — не есть ли преодоление рубежа, отделяющего человека от Бога, слияние своей души с душой мира? А жажда полета не есть ли стремление к совершенству и чистоте? И однажды взлетевший человек, пожалуй, не смог бы вернуться на землю и продолжать жизнь твари несовершенной. Может быть, он бы умер от тоски, а может быть, изменил бы мир!
Я хорошо, я достоверно помню, что, стоя тогда на каменной площадке над ущельем, я пережил мгновения не своей жизни, но мгновения вечности, которая так же неизмерима, как и мгновение, и поэтому равна ему!
Фома