«Я давно хотел написать роман, посвященный собственной молодости. Вспомнить то время и поблагодарить его. Тогда оно мне не слишком нравилось, казалось, что мы живем в ужасный век, в ужасной стране, вокруг кошмар и несвобода — и как же я был рад, когда в конце восьмидесятых все это рухнуло!..» — так рассказывает о замысле романа «Душа моя Павел» его автор, писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.
И добавляет, что теперь смотрит на те годы, на ту страну и на себя в ней по-другому. Мы поговорили с Алексеем Николаевичем о его новой книге и о личных переживаниях, которые стоят за ней.
Эта картошка изменила нашу жизнь

Молодежь на сборе картошки, 1980-е годы, и молодые люди в Парке Горького в Москве, 2018 год. Фото Михаила Джапаридзе/ТАСС
— Алексей Николаевич, а как сегодня, в конце 10-х годов XXI века, Вы смотрите на то время и на ту страну, речь о которых идет в Вашем романе?
— Сегодня дело не только в том, что какие-то вещи видятся иначе и советское время воспринимается как куда более сложное, неоднородное, и в нем все отчетливее различаются разные черты,
просто помните у Иосифа Бродского: «Но пока мне рот не забили глиной, // Из него раздаваться будет лишь благодарность»? Когда-то эти строки из его уст меня поразили и не убедили. Эффектная концовка хорошего стихотворения. Теперь, мне кажется, я их понимаю.
— Уточните, пожалуйста, благодарность за что? За величие страны? За стабильность? За оптимизм советской идеологии? Или Вы о чем-то другом?
— Благодарность за жизнь как дар. Благодарность людям, которые тебя учили, окружали, принимали или отвергали и чувствовали то же самое, что и ты. Или чувствовали другое, но одновременно с тобой. Это, правда, понимаешь и начинаешь ценить только с годами. Роман ведь очень во многом автобиографический. Я тоже в 1980 году поступил после школы на филфак МГУ и меня тоже сразу же вместо лекций отправили на картошку. Тогда это нам не очень-то нравилось: с какой стати мы, студенты, если пришли учиться в лучший университет страны, должны картошку собирать, почему должны жить непонятно в каких условиях, вставать чуть свет, подчиняться бригадирам, мерзнуть, мокнуть, голодать? А сейчас думаю, что это, возможно, был один из самых лучших периодов моей жизни… Потому что со мной, со всеми нами тогда произошла колоссальная жизненная перемена, невероятное расширение, углубление сознания, стремительный рост.
И кроме того там, на картошке, действительно был странноватый парень, ставший прототипом моего героя, Павла Непомилуева. Его многие не принимали, считали за дурачка, а на самом деле он был замечательный. Да и все остальные на самом деле были очень хорошие. И хотя иногда ругались, ссорились, задирались друг перед другом, выпендривались перед девчонками… ну как это бывает среди ребят, когда каждый хочет самоутвердиться, на самом деле все это было прекрасно, чудесно и замечательно, и именно поэтому мне захотелось об этом написать.
А остальное — то есть те идеи, те смыслы, которые я вольно или невольно вкладывал в текст и которые обсуждают читатели, — это уже пространство интерпретаций, и оно вторично.
— А какого читателя Вы представляли себе, когда писали роман? Ведь неправильно, наверное, говорить, что он написан для всех?
— Говорить, может, и неправильно, но все-таки именно так я и отвечу: роман написан для всех. Точнее, вот как: о читателе я думаю, когда пишу биографии писателей, а когда сочиняю свою прозу, то просто пишу. А там уж как получится.
Тем не менее, когда книга написана, можно, конечно, поразмышлять над тем, кому она, с моей точки зрения, покажется интересной. Ну, во-первых, филологам, потому что мой роман… я не назвал бы его филологическим, скорее, он антифилологический или контрфилологический. Но поскольку я отталкиваюсь от филологии, в каком-то смысле бодаюсь с ней, то созданная в романе атмосфера филологам могла бы быть любопытна. И споры моих героев об авторстве «Слова», о Пушкине, о Толстом, о смысле филологии, ее предназначении — тоже.
Далее, это могло бы заинтересовать тех, кто как-либо связан с проблемами образования, потому что, хотя формально действие происходит в 1980 году, там вполне очевидны приметы современности. Да, многое с тех пор изменилось, но многое осталось по-прежнему — начиная от проблем, связанных со вступительными экзаменами, и заканчивая отношениями в академической и университетской среде.
Возможно, мое сочинение было бы интересно молодым людям, поскольку это роман про молодых людей. Конечно, проблемы современного подростка во многом отличаются от тех, что были свойственны подросткам 40 лет назад, но многое осталось неизменным.
Также это может быть интересно тем родителям, которые пытаются понять, что с их детьми происходит на рубеже отрочества и юности и как сделать им лучше, а не хуже.
Наконец, это может быть интересно вообще всем людям моего поколения, в широком смысле слова, которым хочется сопоставить свое восприятие тех лет, свой опыт позднесоветской молодости с моими впечатлениями, с чем-то согласиться, с чем-то нет…
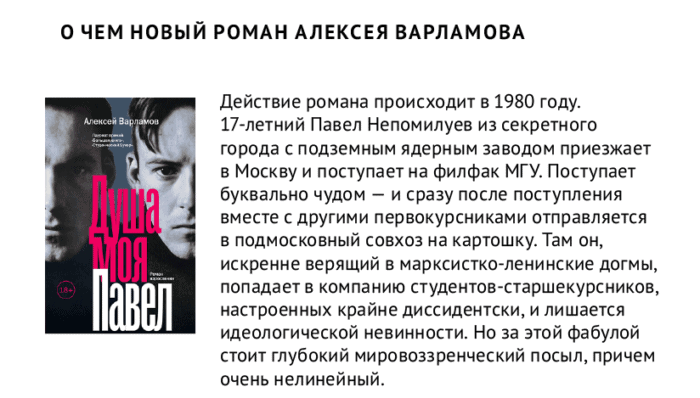
— Обсуждая со знакомыми «Душа моя Павел», я иногда слышал, что роман нельзя считать реалистическим, поскольку главный герой, Павел Непомилуев, совершенно выбивается из ряда тех героев, которые характерны для реалистической прозы, что он невероятен по своей сути. Некоторые говорят, что он ближе к героям Достоевского, прежде всего к князю Мышкину из «Идиота»…
— Любопытно, что сравнение с князем Мышкиным возникло и у одного из первых читателей романа и его издателя — Елены Даниловны Шубиной. Но, я когда писал, совершенно не думал о таких параллелях и никаких аллюзий на Достоевского не закладывал. Хотя, кстати сказать, Достоевский — в высшей степени реалист, и я не считаю, что князь Мышкин — нереалистический персонаж.
— Наверное, такие читатели под реализмом понимают книги не о том, что в принципе могло бы быть, а более жестко — только о том, что наиболее вероятно, наиболее типично…
— А что во всей этой истории нереалистического и даже нетипичного? Что мой герой в 1980 году свято верит в коммунистическую идеологию? Но разве все поголовно тогда диссидентами были? Что Павел невероятно наивен? А в жизни — не только тогда, а вообще в любую эпоху — разве мало наивных людей? Для меня очень важно, что это — роман воспитания, роман взросления, и та перемена, которая происходит с моим героем, оттого и заметнее, что он наделен именно такими чертами. Он за пару месяцев теряет невинность во всех смыслах этого слова. Не только физически, но и идейную невинность, и духовную — однако надо, чтобы ему было что терять. Может быть, поэтому я и взял в главные герои именно его, а не более умных, развитых, продвинутых мальчиков. С ними это все не так интересно.
— Когда я читал роман, у меня было стойкое ощущение, что Вы использовали тот же прием, что и Достоевский в «Идиоте»: странный, наивный, нетипичный юноша Павел становится своего рода зеркалом, в котором отражаются все остальные герои. Когда они реагируют на Павла, проявляется их внутренняя суть, причем гораздо более достоверно, чем когда они общаются друг с другом. Потому что при общении друг с другом они играют какие-то социальные роли, надевают маски, а странного Павла можно не стесняться, с ним можно быть самим собой. Вот скажите, это Вы специально сделали?
— Нет, само собой получилось, но против такой интерпретации я в принципе не возражаю.
— Павел, в отличие от умных, образованных старшекурсников, смотрит на вещи не как диссидент (или, шире, западник), не как верующий христианин, не как русский националист. Впечатление такое, что он внекультурен…
— Нет, я бы не сказал, что Павел совсем уж внекультурен. Да, читал он все подряд, как гоголевский Петрушка, но в целом он воспринимает вещи сквозь призму советской идеологии. И не случайно ему нравится дилогия Александра Чаковского «Год жизни» и «Дороги, которые мы выбираем», совершенно соцреалистическая, хотя и с либеральным оттенком в духе ХХ съезда КПСС. Это тоже ведь одна из культурных традиций. Собственно, в романе, когда Павел спорит со своими соседями-старшекурсниками, и происходит сшибка разных культур — романтической советской и трезвой, жесткой, даже во многом циничной антисоветской, в разных ее вариациях. При этом и аргументация Павла трещит по швам, но и аргументация его оппонентов тоже оказывается кое в чем ущербной.
— Павел — все-таки герой из 1980 года, пусть даже для того времени он и был в чем-то типичен. Но вот насколько он (равно как и другие Ваши герои-студенты) отличается от современной молодежи? Сильно ли она изменилась? Вы же вузовский преподаватель, Вы ректор, то есть современное студенчество знаете не понаслышке.
— Мне кажется, современные студенты — другие. Есть, конечно, общие черты, определяющиеся возрастной психологией, но за прошедшие несколько десятилетий изменения произошли очень серьезные, и та история, которую я рассказал, вряд ли могла бы произойти сейчас.
— Ну а в чем все-таки различия?
— Во-первых, наше поколение росло в условиях цензуры и сильного идеологического давления. Цензура — отвратительная вещь, идейное насилие — тоже, но они вызывают реакцию противодействия, и на этой энергии может происходить бурный личностный и культурный рост. Был в советское время анекдот, что мама заставила сына прочитать «Войну и мир», после того как перепечатала ее на пишущей машинке и сказала, что это запрещенная литература, самиздат. Только тогда сын-подросток согласился прочитать. Наличие внешних запретов порождает невероятную духовную жажду. Я помню, что в свои 17 лет, чтобы посмотреть «Зеркало» Тарковского, готов был ехать хоть во Владивосток (повезло, удалось посмотреть его в каком-то рабочем клубе на окраине Москвы). А сейчас — абсолютная доступность всего. Любой фильм можно скачать в Интернете, любую книгу можно без особого труда достать. И вот эта
доступность культуры парадоксальным образом порождает нечто противоположное духовной жажде — пресыщение, равнодушие.
Во-вторых, в годы моей молодости мы были меньше озабочены карьерой, а просто радовались жизни, как умели. Само слово «карьера» имело отрицательные смысловые оттенки, а уж слова «карьеризм», «карьерист» были вполне себе ругательными. Для большинства жизненная траектория была понятной, количество вариантов, набор возможностей — куда меньше, чем сейчас. «Строить карьеру» фактически понималось как идти по головам, пресмыкаться перед начальством, предавать, вступать в партию, что в моей среде считалось постыдным. В современном же обществе для молодого человека открываются совсем иные возможности, иные вызовы и компромиссы. Вот он окончил университет, его никуда не послали работать по распределению, и он, современный выпускник, сам ищет работу, рассылает портфолио, ходит на собеседования, ищет стажировки. Пространство возможностей больше, чем в наше время, но и риски больше, и жить в той беззаботности, в какой жили тогда многие из нас, сейчас уже не получится. Поэтому современные молодые люди, мягко говоря, несколько прагматичнее.
В-третьих, жизнь молодежи стала куда более опасной, трудной, можно сказать, хрупкой. Появились ловушки вроде наркотиков, легко доступного алкоголя, романтического флера вокруг темы суицида… Нет, в наше время, может, пили даже и побольше, чем сейчас, и прагматиков хватало, но все равно у меня ощущение, что сегодняшним молодым сложнее, чем было нам.
Сама жизнь стала гораздо менее предсказуемой, в ней легче опоздать, чего очень многие боятся, у нас же были другие отношения со временем.
Я хочу, чтобы у нас была свобода, но зачем же так презирать, возноситься?

Молодежь в 1980-е и в 2010-е годы
— В романе постоянно звучит тема диссидентства. Павел, попав на картошку, живет в комнате со студентами-старшекурсниками, которые ведут и друг с другом, и с ним диссидентские разговоры, почём зря ругают советскую власть. Наверняка это основано на личном опыте. А что Вы сейчас думаете об этом?
— Это действительно очень важная тема, выходящая и за рамки моего романа, и за рамки эпохи. Есть диссидентство в узком смысле слова — как несогласие с политикой своей страны, а есть в широком — как некий дух, что ли, особое мировосприятие. И это тоже может оказаться и ловушкой, и закономерным этапом личностного роста… тут нельзя мерить единой для всех линейкой.
Расскажу о своем опыте. Я был воспитан в классической советской семье, отец мой был идейным, убежденным коммунистом, мама тоже была членом партии. Была бабушка, которая происходила из богатого купеческого рода, помнила дореволюционные времена, помнила, как революция их семью ограбила, — но никаких антисоветских речей себе не позволяла, чтобы не вводить внуков во искушение. То есть атмосфера в семье была соответствующей.
И вот именно это настраивало меня в подростковые и юношеские годы на протест — просто потому, что это неизбежный момент роста. Молодости свойственно бунтовать. И не только против политических взглядов родителей. В наше время, например, в воцерковленных семьях нередко подросшие дети уходят из Церкви — это всё явление того же порядка.
В подростковые годы я стал отходить от советских убеждений моих родителей, меня очень тянуло к чему-то другому… не столько даже антисоветскому, сколько — внесоветскому. Например, в этом была причина моего тогдашнего интереса к Церкви. Вот едем мы на дачу, рядом храм. Что это? Зачем? Мне интересно! Взрослые пытаются отвлечь мое внимание: мол, да ерунда это, какие-то отсталые бабульки туда ходят. А зачем они ходят, возникал у меня вопрос. Когда я стал постарше, то настоящим потрясением для меня оказалось «Преступление и наказание» Достоевского. Это был единственный несоветский, просто кричаще-несоветский роман в школьной программе. Дело не в том, что «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» или «Мертвые души» — советские. Просто при их чтении никакого противоречия с советским миром я не чувствовал. Ну были такие люди давным-давно, задолго до советской власти, лишние, нелишние, жулики, скупердяи, ну вот так они жили… А роман «Преступление и наказание» меня поразил, потому что там ставились такие вопросы, которые не просто полностью выламывались из идеологической парадигмы, в которой мы воспитывались, а отрицали и фактически крушили ее.
Еще позже, в десятом классе, я познакомился с девушкой, чьи убеждения были уже вполне сознательными. Она читала запрещенную литературу — и мне давала читать. Помню то поразительное чувство, с которым открыл в 16 лет «Доктора Живаго». Я, советский школьник, комсомолец, читаю запрещенную книгу! Бог ты мой! Это невероятно поднимало меня в собственных глазах. Читая, я чувствовал себя так, как, наверное, чувствовали себя американские космонавты, ступив на Луну. От этой же девушки я узнал о существовании Театра на Таганке, который тогда считался почти диссидентским. Это позднее мне стало понятно, что по большому счету никакого особого диссидентства у Любимова не было. Как не было и у Тарковского, но тогда казалось именно так.
Вот это была для меня, так сказать, завлекательная сторона данного явления. Но вскоре я столкнулся и с другой стороной. Однажды, когда я оказался в очередной раз в гостях у своей подружки, — а жила она в роскошной квартире на Ленинском проспекте, ее дед был известным советским писателем — к ней зашел попрощаться ее знакомый, который был уже настоящим диссидентом и собирался эмигрировать по «диссидентской линии». И вот он как начал нести! Вы, мол, несчастные, живете в этой немытой Совдепии, а я еду в свободный мир, я счастлив… Он говорил, видимо, не такими словами, потоньше, но я воспринял это именно так. И тогда я опять ощутил какой-то внутренний протест: ну зачем обязательно так ругать мою страну? Да, мне самому в ней многое не нравится, да, я хочу читать «Доктора Живаго», я хочу, чтобы у нас была свобода… но зачем же так презирать, возноситься?
Вот так впервые я увидел другую крайность диссидентства, когда закономерное недовольство ограничением политических свобод переходит в презрение, в высокомерие. Когда о своей стране говорят так, будто она тебе чужая.
Уже после этого я прочитал замечательные слова Пушкина: «Я, конечно, с головы до ног презираю свое Отечество, но мне будет досадно, если это чувство разделит со мной иностранец». А в письме к Чаадаеву Пушкин скажет еще лучше: «…далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал».
Вот это — квинтэссенция настоящего патриотизма, под этим я полностью подписываюсь. Кстати, впервые эти пушкинские слова я услышал в фильме Тарковского «Зеркало» — на тот момент практически исключенном из проката, можно даже сказать, полузапрещенном, хотя это настоящее патриотическое кино.
Так что мое отношение к диссидентству двойственное. Я готов принимать его и считать этот опыт полезным в смысле здравого, критического отношения к своей стране, к пониманию ее недостатков и неприятию лжи, но не могу и не хочу принимать диссидентство в той его части, где оно переходит в оплевывание Родины и людей, которые здесь живут.
Но конечно, при этом мое тогдашнее диссидентство было весьма поверхностным — что, кстати, отразилось и в романе. Там есть очень важная сцена, когда возмущенный Павел требует от своих соседей по комнате, студентов-старшекурсников, ответа: за что вот лично они так не любят советскую власть. Они отвечают, и ответы их, хоть и искренни, но очень неглубоки. Для одного вся суть советской власти олицетворяется в воспитателях детского сада, которые насильно кормили его гречневой кашей с молоком, другой не может простить советской власти того, что на фотографии из Артека, опубликованной в «Пионерской правде», подменили флаг Чили флагом СССР… Характерно, кстати, что солженицинский «Архипелаг ГУЛАГ» дают читать Павлу не они, студенты, а совхозный бригадир по кличке Леша Бешеный.
— Это вымышленная фигура или был реальный прототип?
— Действительно, был у нас на картошке такой бригадир, его так и звали Леша Бешеный, очень резкий и очень умный мужик, очень начитанный… но о его политических взглядах я не знал, в этой части образ Леши Бешеного срисован с другого человека — старика, с которым я познакомился уже позднее, когда купил себе на Севере, в Падчеварах, дом. Был там такой дядя Вася Малахов, очень глубокий, умный человек, люто ненавидевший советскую власть, и не за то, что книжки читать не дает или за границу выезжать не разрешает… нет, у него к ней были гораздо более серьезные претензии, она в прямом смысле слова сломала ему жизнь. Раскулачивание, околхозивание… словом, трагическая судьба. Он даже в школе из-за коммунистов не учился, потому что ничего общего с ними иметь не хотел. Хотя мозги у него были как у Ломоносова.
— Возвращаясь к теме диссидентства. Вы назвали одну его «темную сторону» — презрение к своей стране и ее гражданам. Но есть ли у него и другие темные стороны?
— А вспомните Довлатова: «После коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов». У человека могут диаметрально измениться политические взгляды, из сторонника советской власти он становится ее противником, но как у него был черно-белый, тоталитарный по своей сути взгляд на вещи, так и остался, просто плюсы поменялись на минусы. Мир в его восприятии не стал сложнее, глубже, многограннее.
— А бывает и другое: когда ненависть к действительным преступлениям власти превращается в ненависть вообще ко всему, что окружает. Такого диссидента раздражает абсолютно всё, что он видит. И ему кажется, что пусть уж лучше поскорее всё тут сгорит, развалится. Такое вот, по сути, манихейское отношение к жизни. Не просто «мир во зле лежит», а мир — это и есть зло, и лучше бы уж мира вообще не было…
— Да, бывает и так. В романе у меня один из героев, студент Эдик Сыроедов, именно так и говорит, правда, в большом запале: «…вот благодаря таким благодушным идиотам, как их самозваный бригадир, все еще до сих пор не рухнуло, хотя давно уже должно было развалиться. И чем быстрее развалится, тем лучше будет для всех». Вот такое отношение к жизни, «чем хуже, тем лучше» — это тоже одна из опасностей «диссидентского духа».
Диссидентство — это же не только что-то про советскую власть. Оно вообще может касаться не политики, а какой-то другой сферы жизни. Так что предмет нашего обсуждения — вовсе не дела минувших дней…
А меня вот так взяли и толкнули: плыви!

В авиамодельном кружке, 1972 год, и в фан-зоне Чемпионата мира по футболу в Москве, 2018 год. Фото Л. Самсонова и Михаила Джапаридзе/ТАСС
— Павел Непомилуев принимает крещение в Православной Церкви. Это закономерный итог его духовной эволюции? И можно ли сказать, что именно в этом христианский подтекст Вашего романа?
— Мне трудно говорить о том, в чем заключается у меня христианский подтекст, — просто потому что я не ставил себе сознательно задачу написать христианский роман. Вообще, когда пишешь художественную прозу, лучше, по-моему, специально о таком не думать, не «вкладывать идеи», не «поднимать проблему». Если оно в тебе есть, то и в тексте как-то само проявится. Как пел Окуджава, «каждый пишет, как он дышит».
Если же говорить о крещении Павла, то для меня оно — всего лишь один из элементов его взросления. И, конечно, его крещение — это вовсе не осознанный выбор. Но и не случайность. Тут, кстати, момент вполне автобиографический. Я сам крестился в чуть более, правда, позднем возрасте, нежели мой герой, но так же малоосознанно, по наитию какому-то. У меня к тому моменту были верующие друзья, я бывал в храме на службах, но все равно помню то ощущение, будто я к этому не готов, а меня вот так взяли и толкнули: плыви!
Нечто похожее происходит и с моим героем — его запихнули в университет и сказали: живи! Разбирайся с этими великими учеными, разбирайся с этими ребятами, разбирайся в этой взрослой жизни, потому что пришло тебе время. И крещение свое он пока что не осознал, он не знает, что дальше будет с ним делать. Все равно у него, с одной стороны, крестик на шее, а с другой — советские идеи в башке, пусть и пошатнувшиеся, и как он одно с другим будет примирять, остается за рамками романа.
Но если все же пытаться сформулировать этот самый христианский подтекст, то это любовь к миру, любовь к людям, любовь к жизни такой, какой она тебе дана. Мне кажется, в этом романе я как ни в каком другом пытался выразить чувство благодарности Богу за то, что мы живые, за то, что все это нам дано, что мы можем ошибаться, падать, ссориться, мириться, напиваться и трезветь, любить, дружить, за то, что нам дана невероятная свобода действий. Вот все это, по-моему, вполне христианское мировосприятие.
— На мой взгляд, не только это. Я прочитал «Душа моя Павел» как роман о Промысле Божием. Во всей жизни Павла, во всем, что с ним происходит, просматривается явное действие высших сил. Которые его ведут, помогают, охраняют — и от внешних бед, и от внутренних падений, от чрезмерных искушений. Чувствуется, что над ним простерта невидимая рука. И даже не будь в романе эпизода с крещением — это чувство у меня все равно бы осталось.
— Вполне возможная интерпретация, она не противоречит тексту. Но я, когда писал, под этой невидимой рукой имел в виду немножко другое. Это покойные родители Павла, которые оттуда имеют возможность помогать сыну, страховать его, направлять. Другое дело, что и само это, то есть помощь родителей, можно воспринимать как составляющую Божиего Промысла. Они становятся орудием Промысла, точно так же, как и живые люди — друг отца полковник Передистов, деканша филфака Муза Георгиевна, преподаватель истории КПСС Николай Кузьмич Сущ…
— Давайте поговорим об этих орудиях Промысла. В романе есть два героя, не самых центральных, но очень, на мой взгляд, важных: это заместитель декана Раиса Станиславовна и профессор истории КПСС Сущ. Оба они очень нелинейны, не укладываются в какие-то стандартные рамки. Вот Раиса: гнусная вроде бы баба, злая, надменная, стукачка. А вместе с тем — верующая, воцерковленная, соблюдающая посты… причем в то время для человека ее профессии это было крайне опасно. Ее вера — явно не мода.
А убежденный коммунист Николай Кузьмич! Он ведь становится крестным отцом Павла, он спасает его от отчисления из МГУ… и не только из прагматических соображений, но и во многом от сердца.
Так вот, вопрос: что Вы этими фигурами хотели сказать? Можно ведь их трактовать и так, что совершенно неважно, во что человек верит, был бы только хорошим и добрым…
— Нет, очень важно, во что человек верит! Другое дело, что вера в Бога не дает тебе никаких автоматических преимуществ и гарантий, что ты будешь лучше, чем кто-то другой. Воцерковленный человек может быть ничуть не лучше в нравственном отношении, чем невоцерковленный. Но мне очень нравится байка, которую когда-то слышал или читал. Священнику говорят: вот посмотрите на эту даму, она верующая, а какая ужасная лицемерка и ханжа… а вот та дама неверующая, но какая милая и добрая. На что священник отвечает: представь себе, что эта лицемерка и ханжа ко всему прочему была бы еще и атеисткой. И представь, насколько еще более замечательной стала бы эта милая добрая женщина, будь она к тому же и верующей!
Что же касается Суща, то у этого героя был прототип — профессор, который преподавал нам историю КПСС. Инвалид, ветеран войны. Очень интересный и умный дядька, но от него, как и от всех преподавателей этих наук, исходила аура власти. Мы интуитивно чувствовали, что они проверяют не только наши знания, но и убеждения, и побаивались их. Понимали, что конфликт с ними может привести к отчислению. Так вот, Николай Кузьмич Сущ из романа — человек сложный. С одной стороны, он действительно спасает Павла, действительно о нем заботится, действительно обещал священнику, крестившему Павла, стать ему крестным, но все же главное для него — это его коммунистическая вера. Он убежденный коммунист, который, как иезуит, готов пользоваться любыми средствами, чтобы поддерживать тот порядок, который вскоре все равно рухнет. И он это предчувствует, он ощущает агонию СССР, и ему безумно жалко, что уйдет страна, которой он всю жизнь служил, отдал ей все силы, всю молодость. Он вовсе не великий злодей, не человеконенавистник.
Да, я с ним (и с его прототипом) и тогда был идейно не согласен, и сейчас не согласен, я считаю, что советский период — это было ужасное зло для России. Но при этом ведь коммунисты были разные. Были изверги, были палачи — но ведь были и совсем другие люди. Такие, как, например, мой отец, умерший рано, в девяностом году, ему и шестидесяти не было. Поначалу он с энтузиазмом воспринял перестройку, но чем дальше, тем грустнее ему становилось, он чувствовал, куда все катится. И другие, подобные ему люди чувствовали это, а позже, в 90-е, страдали от ощущения своей вины, что не удержали страну — и сколько крови из-за этого пролилось…
— А почему Сущ согласился стать крестным Павла? Ведь он же убежденный атеист!
— Не знаю. Я много сам про своих героев не знаю. Но может быть, потому, что, случайно оказавшись в церкви во время крещения Павла, он испытывает симпатию к священнику, а священник — к нему. Оба они пожилые, оба фронтовики (причем священник старше по воинскому званию). Два служилых человека. Да, сейчас они служат очень разным инстанциям, но способны договориться друг с другом.
И этот мальчик, Павел, становится для них как бы таким «сыном полка». Он общий сын — и советской системы, и Церкви. И на этом они примиряются. Я прекрасно понимаю, что с идейной, духовной, богословской, какой угодно точки зрения соединить это нельзя, да и не надо. Но вот художественно, в конкретном человеке, в конкретной душе примирить, мне кажется, возможно
Фома